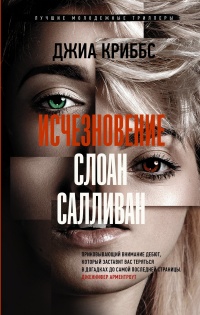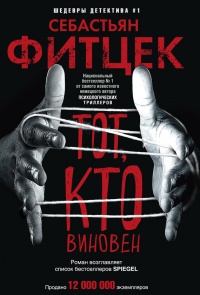Сейчас
Макс откидывает голову назад и громко кричит:
– Эй!
Его голос эхом отражается от сводчатого потолка и прочных стен и, вдоволь нагулявшись внутри, выплескивается наружу через разбитые стекла. Железнодорожная станция маленькая, но выглядит на удивление хорошо знакомой: все такие здания в Швеции строились словно под копирку. Даже в крошечном шахтерском городке в тьмутаракани. Высокие окна, каменный пол и маленькие скамейки посередине зала, где можно сидеть в ожидании поезда.
– Кончай, – говорю я Максу.
Он удивленно смотрит на меня.
– Что?
Я не могу объяснить, почему мне хочется, чтобы он молчал. Туне тогда, в школе, поняла это интуитивно.
– Извини, – говорю. – Пожалуй, я немного нервничаю после всего этого…
– Тебе не за что извиняться передо мной, – отвечает Макс. – Само собой, ты нервничаешь. Мне нравится, как хорошо ты держишься, вопреки всему.
Невольно улыбаюсь. Если, в его понимании, я хорошо владею собой, чего же тогда он ожидал от меня с самого начала?
…Алкоголь довольно быстро затуманил Туне голову, и ее потянуло в сон. Она лишь едва прикоснулась к еде, которую Эмми приготовила на обед. Когда все закончили есть, Эмми снова взяла на себя роль лидера. Обращаясь ко всей группе, но глядя на Туне, она спросила: «Может, нам прерваться и уехать?»
Макс подошел к двери, расположенной с другой стороны вокзала и выходящей на перрон; сейчас он машет мне рукой.
– Иди сюда и посмотри. Мы, конечно, захотим сфотографировать это?
Я иду большими шагами через грязный зал, переступая через растрескавшиеся плитки в полу и чувствуя, как фрагменты штукатурки рассыпаются под моими ботинками. Послеобеденный свет мягче резкого утреннего.
Макс минует двери и выходит на перрон.
– Осторожно, – говорю я ему.
Перрон представляет собой единый монолит, но, подобно лестнице у входа в школу, износился – бетон, из которого его изготовили, с годами успел сильно потрескаться. Напротив станционного здания стоят две отлитые из железа скамейки; обе они сильно проржавели и полностью покрыты оранжево-красной шелухой.
Я фотографирую их под разными углами, не зная, насколько хорошо все получится, – не привыкла ведь держать камеру в руках. Поднимая глаза от видоискателя, слышу, как Макс прыгает с перрона вниз.
От представшего передо мной зрелища становится немного не по себе. Неприятно видеть, как кто-то стоит на рельсах, даже если поезд не проходил здесь более пятидесяти лет.
Не составляет труда представить станционное здание, полное людей. Я как наяву вижу ссорящихся между собой от скуки детей, женщин, надевших свои самые красивые платья для поездки в гости к родственникам. Собственную мать – ужасно молодой, когда она в восемнадцать лет отправлялась в Стокгольм, собираясь начать новую жизнь. И позже – безработных мужчин, которым некуда больше пойти, пытающихся утопить свою неуверенность в завтрашнем дне в спиртном и спящих на станционных скамейках.
«Мне было двадцать лет, когда они закрыли шахту. Руда подошла к концу, да и добыча ее стала небезопасной. Разработки потеряли смысл.
Это произошло совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Мой отец потерял работу, и все трудившиеся там – тоже.
В Сильверщерне жили 607 человек. И 277 из них пахали на шахте. Большинство женщин сидели дома с детьми.
Город оказался как бы в состоянии коллапса. Никто не знал, что делать. Некоторые семьи пробовали продать свои дома, но кто захотел бы купить их в шахтерском поселке без шахты? Пара семей покинула свои жилища и уехала, но большинство не могли последовать их примеру. И прежде всего – рабочий люд Сильверщерна. Они не имели сбережений для этого».
Макс, держа руку козырьком над глазами, смотрит в сторону леса, где рельсы исчезают среди деревьев.
– Страшно подумать, что это был их единственный способ выбраться из города или вернуться обратно, – говорит он.
Сажусь на перрон. Макс протягивает мне руку, и я берусь за нее; приземляюсь довольно неловко, хоть он и поддерживает меня.
– Наверняка существовала и другая дорога, – говорю я и поднимаю камеру.
Через видоискатель рельсы кажутся как бы на удалении, а лес так и вообще черт знает как далеко от меня. Золотистый свет солнца придает покрывающей пути ржавчине своеобразный блеск. На растущем вокруг вереске уже кое-где появились розовые почки.
Я, конечно, не фотограф, но никто не сможет придраться к этой фотографии.
– Где же тогда она находится? – спрашивает Макс.
Качаю головой, опуская камеру.
– Не знаю. О ней нет ни слова в отчете горнодобывающей компании, а значит, они либо не нашли ее, либо попросту не искали. Возможно, остатки этой дороги помечены на карте – тогда именно по ней мы ехали через лес. Просто часть ее, идущая из города и вверх по склону, полностью заросла. Дорога не была даже засыпана щебнем, поэтому, естественно, лес отвоевал ее себе.